
Этика неудобной эмпатии в европейском кинематографе первой половины XX века
Введение
Европейское кино конца 1920-х — 1940-х годов создает новые способы говорить о человеческих чувствах. На фоне политического напряжения, социальных изменений и перехода от немого кино к звуковому режиссёры ищут язык, который способен передавать внутренние переживания и моральную уязвимость человека.
Именно в этот период появляется форма эмоционального высказывания, которую можно назвать радикальной искренностью. Режиссер отказывается от удобных решений и предъявляет зрителю чувства в их предельной оголенности. Эта искренность вызывает катарсис и вместе с ним неловкость и эмоциональный дискомфорт, так как зритель оказался слишком близко к чужой боли.
Этот эффект от просмотра можно назвать неудобной эмпатией, это форма сопереживания, в которой зритель вынужден столкнуться не только с переживаниями персонажа, но и со своим собственным моральным состоянием. Отсутствие готовой морали ставит под сомнение границу между дозволенными и недозволенными чувствами, что обязывает к рефлексии.
Неудобная эмпатия опосредованно связана неоднозначностью персонажей. Кино разрушает комфортную дистанцию между зрителем и экраном. Крупный план лица, гротеск тела, публичное унижение, моральная беспомощность, человечность — это оказывает влияние на эмоциональное состояние, которые зритель переживает, как внутренний конфликт. Зритель оказывается в положении, в котором вынужден встретиться с чужой уязвимостью напрямую, а так как взгляд на боль другого всегда связан с этической ответственностью он испытывает неудобную эмпатию, а это не позволяет занять безопасную позицию наблюдателя.
Исследование сосредоточено на том, как различные формы радикальной искренности порождают разные типы неудобной эмпатии. Особое внимание в нем уделено кинематографическим средствам, которые создают эмоциональное давление: крупному плану, гротеску, телесности, звуку, паузе, композиции, особенностям актёрской игры и работе с пространством.
В качестве материала для исследования я выбрала пять европейских фильмов, созданных между 1928 и 1937 годами, каждый из которых по-своему раскрывает феномен неудобного сопереживания и показывает границы, за которыми эмпатия перестаёт быть нравственно однозначной.
В качестве теоретической основы исследования выступают тексты Андре Базена (о реализме и этике взгляда), Зигфрида Кракауэра (о визуальной психологии европейского кино) и Сьюзен Зонтаг (о зрительской ответственности перед чужой болью), а также современные исследования зрительской эмпатии, позволяющие рассматривать эмоциональный отклик, как результат художественных стратегий.
Цель работы: выявить, каким образом европейское кино 1928–1937 годов формирует различные модели радикальной искренности и как эти модели создают опыт неудобной эмпатии, превращая сопереживание из эмоционального жеста в этическое испытание.
кадр из «Страстей Жанны д’Арк» реж. Карл Теодор Дрейер (1928)
Теоретические основания «неудобной эмпатии»
Эмпатия в в искусстве и психологии традиционно понимается как способность субъекта эмоционально погрузиться в переживания другого. В классических моделях она описывается как форма идентификации, позволяющая зрителю временно разделить внутреннее состояние персонажа.[4] Эмпатия предполагает определенный баланс, достаточно близкую дистанцию для понимания переживания и достаточно безопасную, чтобы не переживать чужую боль как свою собственную. В этой модели эмпатия является желаемой способностью.
Однако кино XX века всё чаще обращается к иной форме вовлечения, к тому, что можно назвать «неудобной эмпатией». Это состояние возникает тогда, когда эмоциональное сопереживание неестественно, неуместно или болезненно. В отличие от комфортной эмпатии, которая укрепляет моральные позиции зрителя и подтверждает его гуманизм, неудобная эмпатия сталкивает зрителя с теми переживаниями, от которых он предпочел бы отстраниться, так как она вызывает стыд, неловкость и принудительное сострадание к тем, кому не положено сочувствовать.
сцена из « „М“ — Город ищет убийцу» реж. Фриц Ланг (1931)
Кинематограф обладает специфическими инструментами, которые делают такую принудительную эмоциональность возможной. Одним из важнейших среди них является крупный план, о котором писал Бела Балаш, подчеркивая, что приближенное изображение разрушает привычный уровень дистанции и превращает лицо в «поверхность непроизвольного откровения». [2] Крупный план фиксирует микродвижения, не поддающиеся контролю, и потому создает эффект вынужденной интимности. В этом смысле кино становится структурой этического давления.
Наблюдение чужих страданий содержит элемент вуайеризма, и поэтому каждый акт визуального контакта несёт в себе этическую амбивалентность.
«Неудобная эмпатия» возникает именно в таких точках напряжения, когда зритель чувствует эмоциональное вовлечение там, где оно кажется нарушением нормы, если сочувствие направлено на фигуру, которую культура предлагает отвергнуть. или если интимная близость изображения воспринимается, как вторжение в чужое пространство. Кино, благодаря своей способности радикально приближать и фиксировать, ставит в позицию моральной уязвимости перед слишком честным изображением страдания.
Кинематограф 1920–40-х годов вырабатывает сложные визуальные структуры, выводящие зрителя за пределы привычной гуманистической чувствительности, и тем самым превращает эмпатию в пространство этического риска.


сцены из «Великой иллюзии» реж. Жан Ренуар (1937)
Неудобная близость: лицо и духовная оголённость. «Страсти Жанны д’Арк»
Фильм Карла Дрейера выстраивает радикально близкую дистанцию между зрителем и персонажем. В центре оказывается человеческое лицо, из-за чего зритель лишается возможности безопасно наблюдать. Крупный план является инструментом духовного давления. Камера фиксирует микродвижения мимики, которые невозможно контролировать и скрывать, и через них раскрывает внутренний излом героини.
При таком приближении лицо перестает быть маской. Детали мимики передают чувства напряжения, страха и сомнения еще до того, как они становятся осознанными. Дрейер строит фильм на этой непроизвольной искренности. Лицо Фальконетти оказывается для зрителя непереносимо близкой. Отсюда возникает ощущение неловкости и присутствия там, где обычно человек отворачивается.
сцена из «Страстей Жанны д’Арк» реж. Карл Теодор Дрейер (1928)
Лишенное дистанции изображение делает эмпатию неизбежной. Она превращается в навязаное состояние, так как зритель поставлен в положение где он не может отвернуться и должен выдержать чужую боль. Возникает специфический тип эмоционального дискомфорта, вовлеченность в чужие страдания.


сцены из «Страстей Жанны д’Арк» реж. Карл Теодор Дрейер (1928)
«некоторые изображения заставляют нас чувствовать стыд — стыд перед тем, что мы смотрим».[1]


сцены из «Страстей Жанны д’Арк» реж. Карл Теодор Дрейер (1928)
Традиционный образ Жанны д’Арк дистанцирован. Дрейер отказывается от него и представляет зрителю человеческую боль. Отсутствие общего плана, пространства и декорации — всё подчинено идее радикальной близости и это становится испытанием для зрителя.
Эффект неудобной эмпатии и радикальной искренности в «Страстях Жанны д’Арк» возникает именно из соединения крупного плана и микро физиогномики. Дрейер создаёт такую форму сопереживания, которая не утешает и не возвышает. Это эмпатия, вызвана неизбежной близостью.
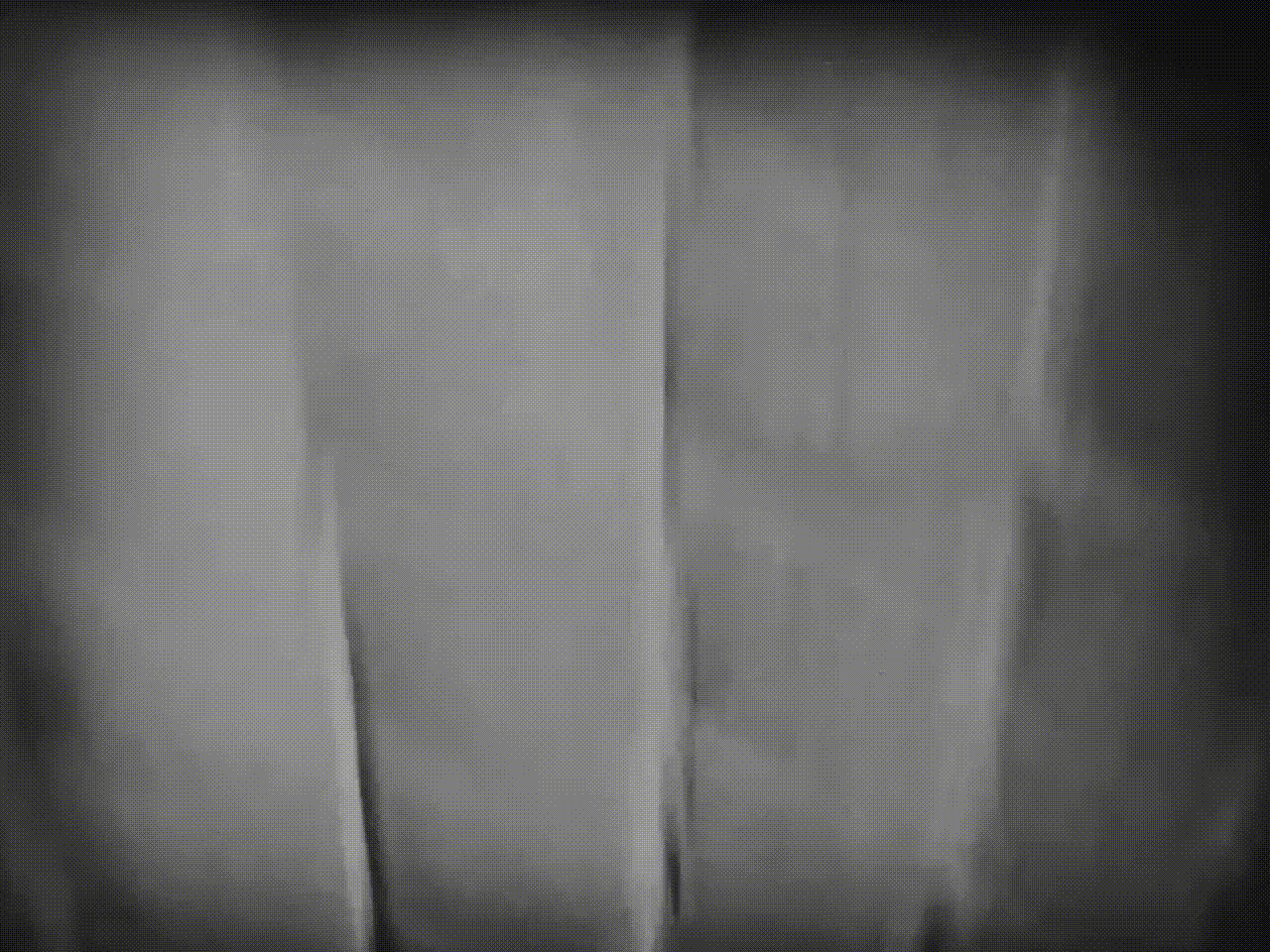

сцены из «Страстей Жанны д’Арк» реж. Карл Теодор Дрейер (1928)
Деформированная искренность. «Человек, который смеётся»
сцена из «Человек, который смеётся» реж. Пауль Лени (1928)
Продолжая разговор о неудобной эмпатии, который в прошлой главе был связан с принудительной близостью крупного плана у Дрейера, фильм Пола Лени предлагает иной, но тесно связанный вариант радикальной искренности. Если у Дрейера камера приближает нас к чистой эмоции настолько, что взгляд становится эмоционально нагруженным, то в «Человеке, который смеется» радикальность возникает из столкновения с лицом, заранее деформированным и поэтому проблематичным для считывания. Вместо того чтобы раскрывать переживание, крупный план Лени демонстрирует разрыв между внутренним и внешним.
Лицо Гуинплена парадоксально, оно устроено так, чтобы скрывать страдание, но этот прием делает страдание видимым. Зритель видит, что герой несчастен, не через прямое выражение эмоции, а через постоянное несовпадение элементов лица. Поднятые в гримасе уголки рта не совпадают с печалью глаз, застывшая улыбка конфликтует с мягкими, осторожными движениями героя. Лени строит крупные планы так, чтобы именно это расхождение становилось главным смысловым узлом.


сцены из «Человек, который смеётся» реж. Пауль Лени (1928)
Важнейшая часть эстетики Лени заключается в том, что он не ограничивается одним приёмом крупного плана. Гротеск выражен в способе организации пространства. Почти каждый эпизод построен так, чтобы герой не мог выйти из поля зрения других. Цирковая сцена, лестницы, коридоры, арки — всё работает на то, чтобы сделать фигуру Гуинплена неизбежно наблюдаемой.
Европейское кино конца 1920-х всё чаще показывало человека как фигуру, лишённую зоны эмоциональной интимности, где он мог бы быть собой, но Лени доводит этот мотив до предела. Гуинплен всё время находится под чьим-то взглядом. Его тело обречено на публичность, а публичность лишает его возможности отвести глаза или отвернуться. Уязвимость в этом фильме выражена в следе физического насилия и в невозможности укрыться.
Однако фильм был бы однозначным, если бы в нём существовало только это насильственное наблюдение. Лени вводит любовь Гуинплена и Деа как противоположную модель эмпатии. Модель, которая ставит под вопрос визуальность как таковую.
Слепота Деа оказывается важнейшим этическим жестом фильма, потому что она видит героя так, как зрителю увидеть не дано. Её любовь игнорирует внешнее и строится на голосе, жестах, дыхании, на тех мелких изменениях человеческого присутствия, которые не зависят от внешней формы.
В сценах с ней Лени резко меняет визуальную выразительность. Свет становится мягче, композиция выстроена более равновесной. Именно с ней мы впервые видим Гуинплена не как объект циркового зрелища, а как человека, способного любить и быть любимым. Его несчастье становится понятным зрителю по тому, как он старается быть осторожным рядом с Деа. Его любовь является попыткой уменьшить свою видимость, и в этом проявляется еще одна форма уязвимости. Страх причинить боль своим видом тому, кто для него важнее всех.
Таким образом, в этой любовной линии возникает иная структура эмпатии, противоположная цирковой. Девушка буквально не видит того, что заставляет остальных отпрянуть, и потому открывает другого героя, которого мы способны понять только моментами, через мимолетные движения глаз, трепет жестов.
«Живую мимику своего лица человек не может ни заглушить, ни контролировать… Лицо всё равно выдаёт то, что оно хочет скрыть» [2]


сцены из «Человек, который смеётся» реж. Пауль Лени (1928)
«Человек, который смеётся» показывает эмпатию как движение от искажения к попытке увидеть иначе. Радикальная искренность здесь не в том, что камера разоблачает героя, как у Дрейера, а в том, что герой разоблачает камеру. Его лицо показывает пределы зрительного восприятия, демонстрируя, что видеть ещё не значит понимать.
Финал фильма последовательно подводит зрителя к краху его уверенности. В последние сцены Лени почти отказывается от крупного плана, будто признавая неадекватность визуального чтения. Гуинплен превращается в тёмную фигуру на фоне света, которая лишена физиогномии. У Лени исчезновение лица становится единственным способом сохранить достоинство героя.
сцена из «Человек, который смеётся» реж. Пауль Лени (1928)
Так фильм Лени расширяет этику неудобной эмпатии. Он показывает, что подлинная эмпатия может возникнуть из разрушения привычных визуальных кодов. Гротеск становится пространством переучивания взгляда. И это делает «Человека, который смеётся» важнейшим этапом в том пути, по которому европейское кино шло от экспрессионистской деформации к психологической правде. Иногда человеческое лицо говорит правду тем, что скрывает её.
Деструкция достоинства и стыд свидетеля. «Голубой ангел»


сцены из «Голубого ангела» реж. Джозеф фон Штернберг (1930)
Фильм Штернберга превращает унижение Профессора Ратта в зрелище, в котором трудно сохранить позицию нейтралитета. На глазах зрителя происходит разрушение фигуры, построенной на социальном статусе, власти и достоинстве преподавателя, и этот демонтаж показан так тщательно, что зритель оказывается втянутым в процесс эмоционального насилия. В отличие от героини Дрейера, чье страдание вызывает вынужденную близость, Профессор является персонажем, который не вызывает симпатии автоматически. Его падение делает эмпатию особенно неудобной. Зритель сталкивается с смешанными эмоциями, потому что одновременно и сопереживает человеку, который вызывал раздражение, ощущает тайное удовлетворение от разрушения его высокомерия.
Штернберг строит фильм как последовательность актов публичной деморализации. Первый вход Ратта в «Голубой ангел» показывает помещение как театр экспозиции телесности. Здесь социальные роли растворяются в глубинах кабаре, где свет работает как инструмент разоблачения. Лучи прожекторов выделяют тела, глаза, косметику, всё то, что Ратт пытается не видеть. Свет в фильме превращается в акт вторжения, через который вырывают героя из привычного ему мира академического достоинства и помещают в пространство, где взгляд становится формой развращения.


сцены из «Голубого ангела» реж. Джозеф фон Штернберг (1930)
Его встреча с Лолой Лолой становится визуальной механикой подчинения. Камера Штернберга постоянно расположена так, что Ратт оказывается ниже или зажат сбоку и поэтому становится объектом для чужих взглядов. Это один из ключевых механизмов стыда. Не сам позор, а знание, что за тобой наблюдают. Штернберг делает зрителя частью этого наблюдения. Камера не только фиксирует его унижение, но и придаёт ему театральность, превращая страдание в перформанс, который должен быть увиден.
В этом фильме зритель сталкивается с двойной дилеммой. Мы понимаем, что становимся свидетелем моральной деградации человека, но в то же время не можем полностью солидаризироваться с ним слишком явна его избыточная серьёзность. Ратт вызывает сложное чувство. Хочется отвернуться, но одновременно чувство стыда становится нашим собственным и приближает к чужому падению.


сцены из «Голубого ангела» реж. Джозеф фон Штернберг (1930)
«Можно долго смотреть на их лица и не постичь загадки — и непристойности — этого совместного разглядывания.»[1]
сцен из «Голубого ангела» реж. Джозеф фон Штернберг (1930)


сцены из «Голубого ангела» реж. Джозеф фон Штернберг (1930)
По мере развития фильма камера всё меньше защищает Профессора. Она не ищет благородных ракурсов, а в сцене с петушиным кукареканьем камера становится соучастником разрушения. Она не скрывает, насколько непристойным и унизительным становится участие Профессора в номере. Разрушение его достоинства не выставляется напоказ и превращается в объект коллективного смеха, который зритель вынужден разделять, даже если испытывает неловкость от этого.
Амбивалентность эмпатии становится основным эмоциональным механизмом фильма. Зритель сопереживает тому, кто отталкивает и чувствует стыд за того, чей стыд в каком-то смысле заслужен. Обобщая, ощущает ответственность за то, что смотрит. «Голубой ангел» строится на этой этической неопределённости, где зритель не может выбрать правильную позицию. В этом проявляется радикальная искренность Штернберга.
Так возникает эффект неудобной эмоции, то есть эмпатии, основанной на дискомфорте, из-за столкновения с унижением и моральным падением, от которых не отвести взгляд.

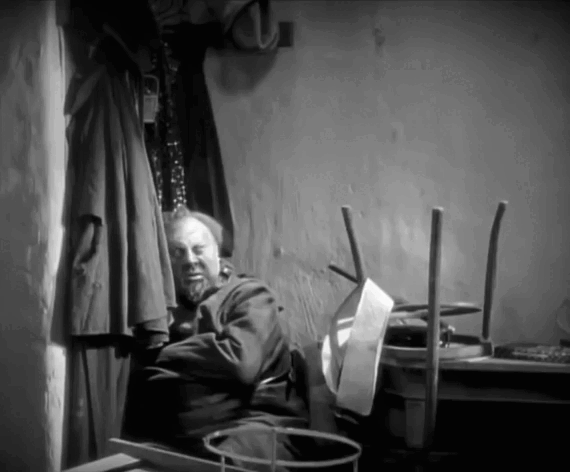
сцены из «Голубого ангела» реж. Джозеф фон Штернберг (1930)
Нравственная неоднозначность. «„M“ — Город ищет убийцу» реж. Фриц Ланг (1931)
сцена из « „М“ — Город ищет убийцу» реж. Фриц Ланг (1931)


сцены из « „М“ — Город ищет убийцу» реж. Фриц Ланг (1931)
Фриц Ланг в «M» создаёт одну из самых радикальных моделей принудительного вовлечения зрителя в европейском кино 1930-х. Фильм заставляет зрителя сопереживать преступнику через непроизвольное включение в его субъективную перспективу. Достигается это через психологизацию образа и технические решения, такие как, звук, пространство, камера. Ланг не дает возможности остаться отстраненным наблюдателем. Он постепенно втягивает зрителя в ту же зону напряжения, в которой находится убийца детей.
Первый механизм навязанного сопереживания — субъективизация взгляда, которая происходит без прямого субъективного кадра. Ланг не дает нам видеть пространство через глаза преступника, однако строит все так, что мы постоянно слышим то, что слышит он, и видим последствия его присутствия. Самое явное решение — насвистывание мелодии, звук, который стал акустическим маркером разрыва между контролем и его потерей. Преступник появляется сперва как звук, а уже потом, как фигура преследуемого. То, что зритель узнаёт убийцу раньше других персонажей, превращает его в невольного соучастника его страха. Мы испытываем тревогу за того, кто вызывает отвращение.
сцена из « „М“ — Город ищет убийцу» реж. Фриц Ланг (1931)
Эта парадоксальная эмпатия создана средствами звукового монтажа. Тяжелые шаги, звуки города, приглушённые голоса работают как альтернатива крупному плану. Режиссер навязывает нам внутренние ритмы убийцы: панику, попытки оставаться незамеченным и психофизиологический крах.
Следующий ключевой механизм — монтаж параллельных масс, который Ланг использует не только для построения сюжета, но и для пробуждения эмпатии. Полиция и преступный мир разыскивают убийцу одновременно, и Ланг монтирует их действия как зеркальные. И те, и другие систематизируют пространство, выстраивают бюрократию поимки, действуют как коллективные машины слежки. Убийца оказывается в положении жертвы преследования, и зритель поневоле принимает его позицию, так как он один против множества, словно загнанное животное.
Ланг создает картину моральной неустойчивости, в которой не существует возможности занять однозначную этическую позицию. С одной стороны, преступление чудовищно, а с другой — его преследование приобретает черты коллективного насилия. Финальная «народная казнь» в подвале является кульминацией этой неустойчивости. Толпа ведет себя как инстанция справедливости, но ее мотивы не чище мотивов преступника. Взгляд зрителя постоянно отклоняется от четкого морального деления и возвращается к страху перед иррациональностью толпы.
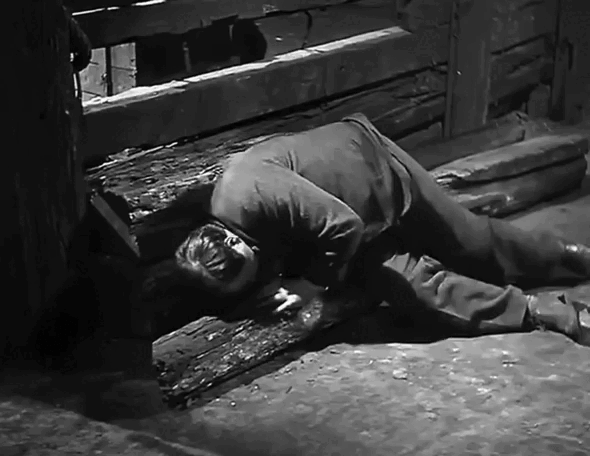

сцены из « „М“ — Город ищет убийцу» реж. Фриц Ланг (1931)
«Страх перед хаосом делает массы восприимчивыми к любому порядку — даже если этот порядок основан на насилии.» [3]


сцены из « „М“ — Город ищет убийцу» реж. Фриц Ланг (1931)
Ланг показывает психологию общества, готового искать виновного любой ценой, и превращает эту охоту в образ коллективного бессознательного. Здесь особенно важна мысль, перекликающаяся с анализом Зигфрида Кракауэра: немецкое довоенное общество было пронизано идеей тотального контроля, страхом перед хаосом и стремлением к упорядочиванию жизни через подавление индивида. Эмпатия к преступнику в этом контексте становится способом разоблачения общества.
Так, «M» создаёт особую форму принудительной эмпатии, так как зритель оказывается внутри морального тупика, где выбор позиции невозможен. Навязанный звук, зеркальное преследование и настроение напряжения эпохи делают этот фильм одним из ключевых в раскрытии темы неудобной эмпатии. Ланг заставляет зрителя увидеть общество, как механизм подавления, который производит фигуру врага.
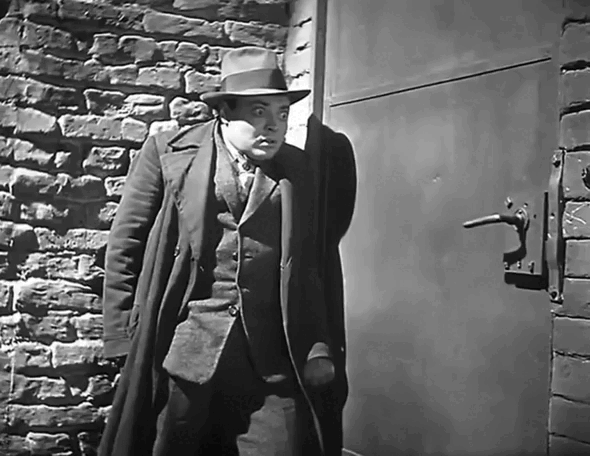
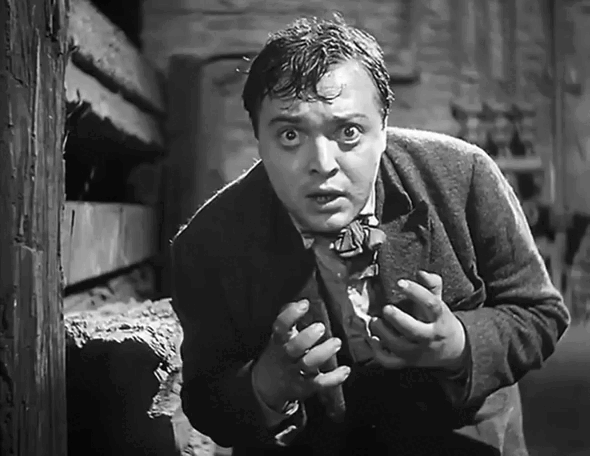
сцены из « „М“ — Город ищет убийцу» реж. Фриц Ланг (1931)
Гуманистическая эмпатия и её пределы. «Великая иллюзия»


сцены из «Великой иллюзии» реж. Жан Ренуар (1937)
«Великая иллюзия» Жана Ренуара выстраивает уникальную модель гуманистической эмпатии. Фильм отвергает центральный для военного времени нарратив противопоставление наций и заменяет его противопоставлением классов. Война в фильме не столько международный конфликт, сколько пространство, в котором классовые культуры сталкиваются и вынуждены узнавать друг друга. Эмпатия становится здесь жестом преодоления идеологии.
Центрами эмоциональной гравитации становятся трое героев: Марешаль, Розенталь и де Больдье. Ренуар выстраивает их отношения не по принципу дружбы, а как краткие моменты, когда люди вдруг узнают друг в друге что-то человеческое. Солидарность Марешаля и Розенталя рождается из общего опыта, голода, усталости, необходимости выживания. Несмотря на их ссоры, между ними формируется человеческая привязанность.
Совершенно иной характер имеет связь между де Больдье и немецким офицером Рауффенштейном. Эта неудобная близость между врагами, основанная на общем аристократическом воспитании, этикете, представление о долге. Их диалог в цитадели являетсся одной из самых болезненных сцен фильма. Два офицера, принадлежащие к уходящему миру дворянских кодексов, вынуждены признать не только уважение друг к другу, но и собственную беспомощность. Перед зрителем предстает эмпатия, обрамленная трагической ясностью.


сцены из «Великой иллюзии» реж. Жан Ренуар (1937)
Режиссура Ренуара подчеркивает хрупкость и непреднамеренность этой эмпатии. Его камера мягко наблюдает и не принуждает к сопереживанию, позволяя ему возникнуть естественно. Отсутствие героизации и патетики делает фильм принципиально анти спектакулярный. Ренуар избегает героических крупных планов, избыточных пауз или навязанных символов. Наоборот, он использует естественность игры, пластичную мизансцену, скользящую камеру, чтобы подчеркнуть простоту и человечность ситуаций. Эмпатия рождается, как побочный эффект совместного пребывания в пространстве войны.
Именно в таких моментах обнаруживаются её пределы. Ренуар демонстрирует, что классовая солидарность более прочна, чем национальная, ведь де Больдье ближе к аристократу Рауффенштейну, чем к своим товарищам по плену. Марешаль и Розенталь образуют связь, в которой традиционные представления о французской идентичности размываются. Гуманистическая эмпатия сталкивается с общественным контекстом и проигрывает ему.
сцена из «Великой иллюзии» реж. Жан Ренуар (1937)
Особую роль в «Великой иллюзии» играют пространственные переходы. Ренуар не использует мягкие смещения взгляда, когда камера переходит от одного персонажа к другому внутри единого пространства. В результате зритель почти физически чувствует связь между людьми, которые формально разделены статусом, культурой или национальностью. Именно здесь возникает неудобная эмпатия, так как взгляд зрителя вынужден скользить вслед за камерой и соприкасаться с героями, между которыми должна сохраняться идеологическая дистанция.
Фильм раскрывает возможность сближения между теми, кто официально объявлен врагами, и этим показывает шаткость любых границ, проведенных идеологией. Однако эта эмпатия не отменяет трагедии. В этом заключается гуманизм Ренуара, в хрупкости человеческих связей, которые не выдерживают давления истории.


сцены из «Великой иллюзии» реж. Жан Ренуар (1937)
сцена из «Великой иллюзии» реж. Жан Ренуар (1937)
Заключение
Неудобная эмпатия, которую формирует европейское кино межвоенного периода, становится инструментом разрушения привычных принципов морали. Эти фильмы заставляют зрителя переживать там, где он предпочёл бы остаться нейтральным или сочувствовать тем, кому культура отказывает в сострадании, а также сталкиваться с болью, стыдом и унижением без дистанции. Эмпатия перестает быть комфортным гуманистическим жестом и превращается в испытание, в состояние этического напряжения, где ясных правильных ответов не существует.
Разные типы радикальной искренности проявляются в том, как камера приближает, обнажает и фиксирует. Телесная искренность крупного плана, эмоциональная непроизвольность мимики, социальная уязвимость персонажей, политическая амбивалентность коллективных структур — всё это формирует пространство, в котором зритель не может остаться внешним наблюдателем. Искренность создает прямой контакт между зрителем и изображенным, лишая возможности отвести взгляд.
Европейское кино начала ХХ века вырабатывает новую этику чувств, в которой зритель больше не защищён моральной рамкой. Фильмы не предлагают возвышенных выводов, не утешают и не гармонизируют реальность, напротив, показывают ситуацию, где гуманизм не гарантирован, а эмпатия возникает вопреки культурной идеологии конфликта.
сцена из «Голубого ангела» реж. Джозеф фон Штернберг (1930)
Сонтаг, С. Смотрим на чужие страдания / Сьюзан Сонтаг; пер. с англ. Виктора Голышева. — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2014. — 96 с.
Балаш, Б.Кино: становление и сущность нового искусства / Б. Балаш. — М.: Прогресс, 1968. — 143 с.
Кракауэр, З. От Калигари до Гитлера: психологическая история немецкого кино / З. Кракауэр; пер. с англ., с сокр. — М.: Искусство, 1977. — 320 с.
Афанасьев Сергей Глебович Эмпатия и художественное восприятие. Теории «Эмоционального вовлечения» и «Репрезентации» // Социально-гуманитарные знания. 2010. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/empatiya-i-hudozhestvennoe-vospriyatie-teorii-emotsionalnogo-vovlecheniya-i-reprezentatsii (дата обращения: 17.11.2025).
сцена из «Страстей Жанны д’Арк» реж. Карл Теодор Дрейер (1928). URL: https://www.afisha.ru/movie/strasti-zhanny-d-ark-167410/video/ (дата обращения: 19.11.2025).
сцена из « „М“ — Город ищет убийцу» реж. Фриц Ланг (1931) URL:
https://vk.com/video-90984411_456239037 (дата обращения: 19.11.2025).
сцены из «Великой иллюзии» реж. Жан Ренуар (1937) URL: https://vk.com/video-152731016_456245465 (дата обращения: 19.11.2025).
сцены из «Страстей Жанны д’Арк» реж. Карл Теодор Дрейер (1928) URL: https://www.afisha.ru/movie/strasti-zhanny-d-ark-167410/video/ (дата обращения: 19.11.2025).
сцены из «Страстей Жанны д’Арк» реж. Карл Теодор Дрейер (1928) URL: https://vk.com/video-52526415_456244496 (дата обращения: 19.11.2025).
сцена из «Человек, который смеётся» реж. Пауль Лени (1928) URL: https://vk.com/video-39165340_456245970 (дата обращения: 19.11.2025).
сцены из «Голубого ангела» реж. Джозеф фон Штернберг (1930) URL:
https://vk.com/video-36362131_456239786 (дата обращения: 19.11.2025).
сцены из « „М“ — Город ищет убийцу» реж. Фриц Ланг (1931) URL:
https://vk.com/video-90984411_456239037 (дата обращения: 19.11.2025).
сцены из «Великой иллюзии» реж. Жан Ренуар (1937) URL: https://vk.com/video-152731016_456245465 (дата обращения: 19.11.2025).
сцены из «Голубого ангела» реж. Джозеф фон Штернберг (1930) URL:
https://vk.com/video-36362131_456239786 (дата обращения: 19.11.2025).



